Почему Токаев решил подарить сайгаков китайцам?
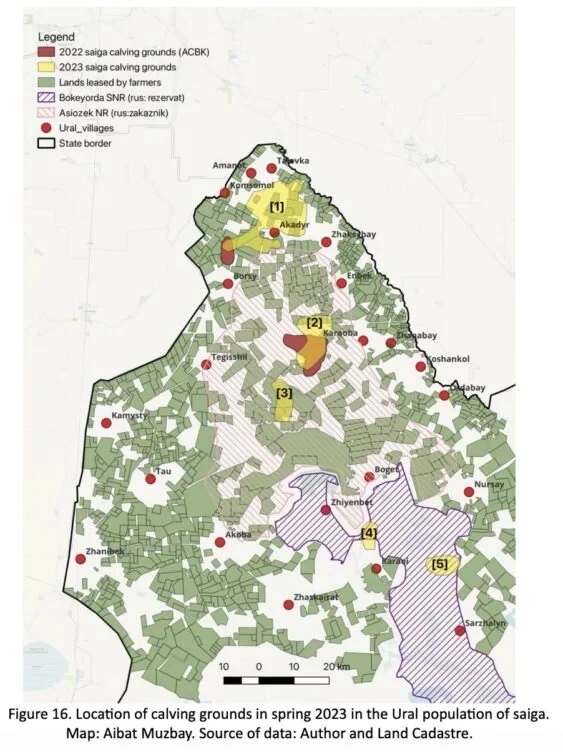
Это поднимает вопрос: кто был здесь первым — фермер или сайгак? Формально земля принадлежит фермерам, но исторически сайгаки паслись здесь веками. Конфликты не возникали, когда люди вели кочевой образ жизни. Теперь же система оседлая и интенсивная.
Важно учитывать экономические факторы: фермеры инвестируют в землю и зависят от субсидий. Это усугубляет напряженность. Убытки реальны, но возможны и манипуляции. Например, фермер может заявить о повреждениях, даже если это был недавно введённый в оборот участок. Вопрос эффективности использования земли также остаётся открытым.
– Нужно ли регулировать численность сайгаков для защиты фермеров? Или это просто лоббизм интересов «Охотзоопрома»?
– В термине «регулировать численность» заложено негативное значение, часто ассоциируемое с вредителями. Сайгаки не являются вредителями; правильнее говорить о рациональном использовании. Речь идет о том, чтобы ежегодно забирать из популяции 10-20% и использовать этот ресурс с выгодой.
Когда звучат слова «регулировать», это часто эмоциональная реакция, которая может отвлекать от рациональных решений. На такие эмоциональные импульсы лучше не реагировать, а искать взвешенные решения.
– Как вы относитесь к новостям о том, что Казахстан подарит Китаю 1,5 тысячи сайгаков?
– Это скорее политический жест, чем экологическая мера. Полторы тысячи сайгаков — это незначительное количество, и для сравнения, обсуждаемый отстрел может составить около 800 тысяч особей. Однако с точки зрения дипломатии это может укрепить отношения с Китаем и повысить шансы на поддержку Казахстана на заседании CITES.
Существуют риски, связанные с передачей сайгаков в Китай. Если их популяция там начнёт расти, это может повлиять на генетическую чистоту местных подвидов. Но с практической точки зрения, это может служить страховкой для казахской популяции в случае экологических катастроф.
– Есть ли другие страны, заинтересованные в получении сайгаков?
– Запросы могли бы поступить и от других стран с аналогичными ландшафтами, например, от Туркменистана и Узбекистана. Однако миграция сайгаков в эти страны происходит естественным путём, и у них нет явного интереса в дополнительных поставках.
Интерес к сайгакам также проявлял Азербайджан, но в остальном малое количество стран может создать устойчивые популяции. В России сайгаки уже мигрируют самостоятельно, а в Украине война препятствует подобным проектам.
– Получается, что гуманными методами численность сайгаков не сократить, и отстрел остаётся единственным реальным инструментом?
– На данный момент других способов действительно нет. Можно попробовать ловить и переселять животных, но это сложно. Сайгаки пугливы и могут сбежать. Важно учитывать, что у животных существует коллективная память, и если она будет нарушена, это может негативно сказаться на их выживании.
Поэтому промысел сайгаков является исторически сложившейся моделью. Вопрос лишь в том, как это делать: какие объемы, контроль и распределение доходов. Это определит устойчивость подхода.
Две философии споры о подходах к сайгам: антропоцентризм и экоцентризм. Первая подразумевает, что природа должна использоваться для пользы человека, а вторая считает, что природа и животные имеют свою ценность и не должны использоваться только ради выгоды.
– А что будет, если мы оставим сайгаков в покое?
– Даже если мы отстранимся и скажем «пусть природа сама регулирует», будут происходить эпидемии и резкие спады численности. Генетический пул популяции сейчас не очень широк, и без контроля недовольство лишь возрастёт, а проблемы станут ещё более острыми.
Поэтому рациональнее использовать ресурсы сайгаков, чем позволять им теряться. Главное — обеспечить устойчивое использование и внедрить механизмы контроля, чтобы избежать катастрофы в будущем.
Читайте также:








