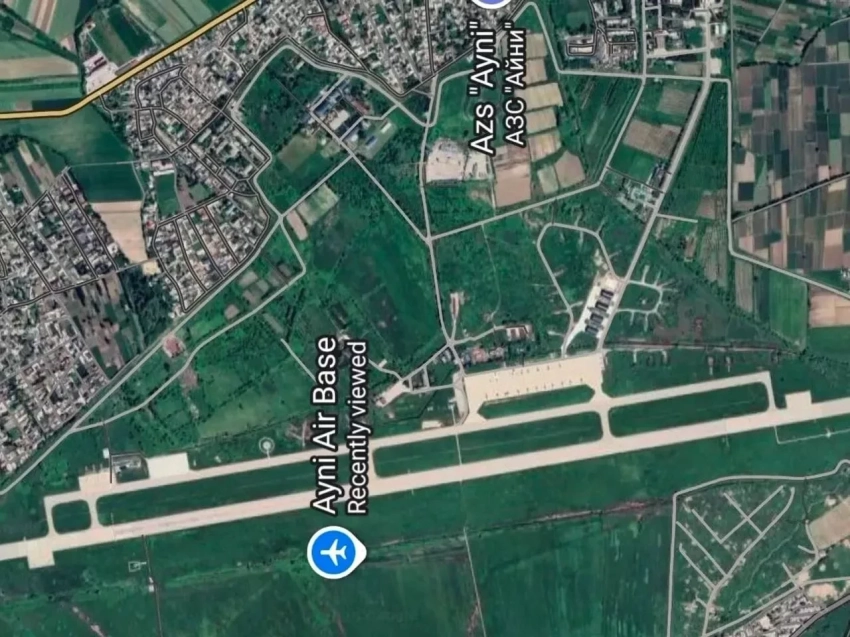Воспоминания о Восточном Туркестане: политика Китая в отношении уйгурской идентичности
12 ноября 1933 года в Кашгаре была официально провозглашена Первая Восточно-Туркестанская Республика. Хотя это событие оказалось кратковременным, оно стало важной вехой для уйгурского и других тюркских народов Центральной Азии. Впервые в جدید истории уйгуры смогли представить себе независимое государство, которое отражало бы их культуру, язык и религию, свободное от китайского влияния. Однако менее чем через год республика была ликвидирована и оказалась под контролем более мощных держав. Тем не менее, 12 ноября остаётся значимой датой: каждый год уйгуры в диаспоре отмечают этот день как символ незавершённой мечты о независимости Восточного Туркестана.
Сейчас эта мечта кажется особенно далёкой.
С момента, когда контроль над регионом, переименованным в Синьцзян-Уйгурский автономный район, был установлен Китайской Народной Республикой, уйгуры оказались под воздействием систематической репрессивной кампании. Эта кампания является одной из самых последовательных попыток государственного подавления культуры в современности.
Официальный Пекин заявляет, что его действия в Синьцзяне направлены на борьбу с экстремизмом и поддержание порядка. Однако данные, предоставленные Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и международными правозащитными организациями, такими как Human Rights Watch и Amnesty International, говорят о другом: речь идёт о проекте, целью которого является принуждение населения к изменению своей идентичности под давлением страха. В 2022 году OHCHR заявил, что действия Китая могут представлять собой международные преступления, включая преступления против человечности. Среди доказательств — массовые произвольные задержания, наблюдение, принудительный труд и подавление культурных и религиозных проявлений.
По оценкам независимых исследователей, начиная с 2017 года, более миллиона уйгуров и других тюркских мусульман были помещены в так называемые «центры профессионального обучения» или «перевоспитания» — термины, используемые для обозначения тюрем. Бывшие заключённые рассказывают о физическом насилии, политической идеологической обработке и сексуальном насилии. Многие из них были задержаны лишь за практику ислама, наличие религиозных материалов или же за связь с родственниками за границей. Очевидно, что главная цель таких действий состоит в разрушении культурной идентичности и формировании лояльности к Коммунистической партии.
Жизнь за пределами лагерей также остаётся под строгим контролем. В Синьцзяне действуют системы видеонаблюдения, биометрические пункты и цифровой мониторинг, которые отслеживают передвижения и коммуникации. Родители подвергаются задержанию, а их дети помещаются в государственные интернаты, где уйгурский язык заменяется мандарином, а уроки лояльности подменяют религиозное воспитание. Мечети сносятся или переоборудуются, кладбища разрушаются, а деревни переименовываются, что приводит к стиранию исламских и тюркских символов. Спутниковые снимки подтверждают исчезновение религиозных и культурных объектов по всему региону.
В то время как Пекин оправдывает свои действия необходимостью борьбы с экстремизмом, массовые преследования граждан, учёных, поэтов и духовенства ставят под сомнение эти доводы. Принудительная стерилизация женщин, уголовные наказания за соблюдение поста в Рамадан и уничтожение кладбищ свидетельствуют о том, что фактическая цель заключается в культурной переориентации населения, а не в борьбе с терроризмом.
Контроль над Синьцзяном имеет стратегическое значение для Китая: регион располагается в центре инициативы «Пояс и путь», граничит с восьмью государствами и богат природными ресурсами. Устойчивый контроль обеспечивает экономические связи, политическую стабильность и идеологическое соответствие. Международная дипломатия и пропаганда также поддерживают этот контроль: в 2019 году более тридцати стран, включая Саудовскую Аравию, Пакистан и Египет, похвалили Китай в Совете ООН по правам человека за «замечательные достижения» в области прав человека в Синьцзяне.
Мировая реакция остаётся неоднородной. США и ЕС ввели санкции против отдельных китайских чиновников и ограничили импорт товаров, произведённых с использованием принудительного труда. Однако полноценного международного расследования пока не проведено, и крупные корпорации продолжают использовать цепочки поставок, в которых задействован труд уйгуров.
12 ноября 2025 года в Норвегии был нарушен молчаливый статус-кво: Норвежский комитет уйгуров организовал акцию протеста перед парламентом в Осло, требуя признать независимость Восточно-Туркестанской республики. Участники держали фотографии жертв и обращались к властям Норвегии с призывом признать и поддержать республику, подчеркивая продолжающийся геноцид уйгуров.
Демонстрация осудила нарушения прав человека, долговую дипломатию Китая и эксплуатацию природных ресурсов. Она продемонстрировала упорство уйгурской диаспоры в стремлении к признанию и ответственности на фоне глобального бездействия.
Ситуация в Синьцзяне имеет более широкий контекст: китайский опыт цифрового контроля — сочетание наблюдения, анализа данных и идеологической обработки — может служить моделью для других стран, стремящихся управлять населением. Моральная цена таких действий колоссальна: цивилизация, существовавшая на протяжении тысячелетий и внесшая значительный вклад в исламскую науку, торговлю и культуру Центральной Азии, находится на грани исчезновения на своей исторической территории.
Защитники политики Китая утверждают, что западные СМИ преувеличивают масштабы проблемы. Однако факты подавления уйгуров подтверждаются не только западными источниками, но и спутниковыми данными, утечками внутренних документов и свидетельствами выживших. Даже если принять во внимание аргумент о борьбе с экстремизмом, масштабы коллективных наказаний и уничтожения культуры превышают любые разумные пределы.
Каждый год 12 ноября уйгуры по всему миру вспоминают свою историю, в то время как их родина остаётся под жестким контролем и цензурой. Кашгар, когда-то динамичный центр культуры Центральной Азии, сегодня стал символом пропаганды. Явный разрыв между обещанной автономией и реальностью стал особенно заметным.
Трагедия Восточного Туркестана — это не только локальная проблема, но и испытание для всей мировой совести. Игнорирование сложившейся ситуации под предлогом внутреннего дела означает признание того, что экономическая мощь оправдывает преступления против человечности. Международное сообщество должно требовать ответственности, а не оставлять без внимания культурное уничтожение.
В этот день памяти Первой Восточно-Туркестанской Республики мир должен уйгурам не только выражать сочувствие, но и предоставлять признание, справедливость и настойчивость в защите прав человека. Никакая «национальная реконструкция» не сможет создать настоящую нацию, уничтожая идентичность своего народа.
Читайте также: