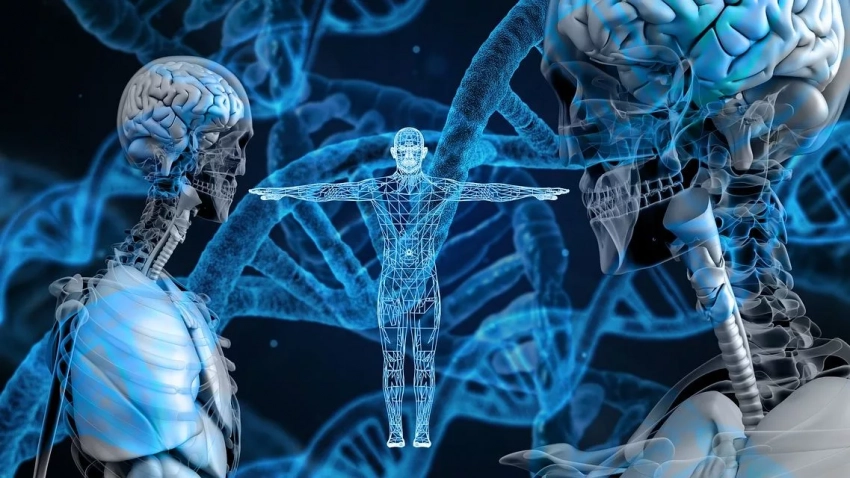США: от колониального наследия к новой сетевой империи

Кадыр Маликов, директор НАИЦ "Религия, право и политика" и эксперт в области исламского права, подчеркивает, что современный мир переживает значительные изменения, в которых традиционные ориентиры международных отношений начинают терять свою актуальность. В отличие от XX века, когда международное право имело хоть какую-то универсальную значимость, сегодня оно сталкивается с параличом и утратой действенности. В таком контексте сила становится основным аргументом, а взаимодействие между государствами все чаще напоминает "сделку интересов", где моральные, правовые и этические аспекты отходят на второй план. Это подчеркивает необходимость переосмысления поведения США как ключевого игрока на мировой арене.
Соединенные Штаты унаследовали от Британской империи несколько стратегий. Прежде всего, они продолжают делать акцент на морском могуществе. Британцы выстраивали свои колонии вокруг морских путей, создавая контрольные базы для управления мировой торговлей. Аналогично, США в XX и XXI веках развивают свою модель, обладая более 700 военными базами по всему миру, что позволяет им осуществлять глобальную проекцию силы.
Во-вторых, следует отметить доктрину баланса сил. Британская империя веками не позволяла одной стране взять под контроль Евразию. США сегодня, в свою очередь, сдерживают Китай, препятствуют интеграции России в евразийское пространство и дестабилизируют Ближний Восток для сохранения контроля над важнейшими коммуникациями.
Третьим аспектом является использование права как инструмента интересов. Британия всегда интерпретировала нормы в свою пользу, и США следуют этому примеру. Они ссылаются на международное право, когда это соответствует их интересам (например, в вопросах свободы навигации), и игнорируют его в тех случаях, когда оно ограничивает их действия (как, например, в Ираке в 2003 году или в ходе бомбардировок Югославии в 1999 году).
Однако США не просто воспроизводят британский опыт. Они создали новую сетевую империю, где доллар стал мировой валютой, а финансовые учреждения, такие как МВФ и Всемирный банк, играют ключевую роль. Высокие технологии (Google, Apple, Microsoft) и массовая культура также стали важными аспектами их влияния. Если Британия строила "империю портов", то США сформировали "империю сетей", где контроль осуществляется через зависимости в экономической, технологической и культурной сферах.
Внешняя политика США всегда отличалась прагматизмом, но с заметной идеологической оболочкой. Под лозунгами "демократии" и "прав человека" они стремились получить доступ к ресурсам и стратегическим территориям. Традиционно их политика колебалась между изоляционизмом (доктрина Монро, XIX век) и интервенционизмом (XX век - две мировые войны и Холодная война). Дональд Трамп, став президентом, усилил эту тенденцию, действуя открыто и без прикрытий. Его бизнес-подход проявился в международных отношениях, где он рассматривает соглашения как "сделки", основанные на интересах, а не на вечных союзах. Например, он потребовал от НАТО увеличения финансовых взносов, пересмотрел торговые соглашения и вышел из климатических договоров, если они не приносили прямой выгоды. Таким образом, Трамп стал символом американского прагматизма в его чистом виде. Однако подобные подходы уже наблюдались в истории США, когда изоляционисты и президенты вроде Эндрю Джексона основывались на принципе "национальной выгоды". В эпоху глобализации такая позиция вызывает гораздо более серьезные последствия, чем в закрытой системе XIX века.
В заключение, действия США на международной арене представляют собой смесь старого и нового, сочетая имперскую логику Британии с трансформацией в сетевую империю, опирающуюся на доллар, технологии и информацию. В условиях кризиса международного права и многополярности при Трампе США будут действовать все более прагматично, часто в формате сделок.
На сегодняшний день международное право как универсальный арбитр фактически утратило свою значимость. Это связано с несколькими факторами: ослаблением ООН, где Совет Безопасности блокируется соперничеством великих держав, что приводит к игнорированию резолюций. Также наблюдается размывание норм, когда такие страны, как США, Россия и Китай, интерпретируют принципы права по-разному, превращая их в инструмент политической игры. К тому же, увеличивается количество игроков на международной арене — корпорации, транснациональные сети, религиозные и террористические организации. В результате международная система все больше напоминает XIX век с его "концертом держав". Однако в XXI веке мы сталкиваемся с непредсказуемой многополярностью.
Появление многополярности действительно делает мир более разнообразным, но в то же время создает условия для нестабильности. Локальные конфликты становятся постоянным явлением в мировой политике. Гибридные войны заменяют традиционные сражения, и информация, цифровое пространство и культурные нарративы становятся новыми инструментами борьбы. Конкуренция мягких сил, таких как туризм, климатическая повестка, культурная продукция и технологии, становится важным полем для соперничества. Таким образом, предсказать что-либо становится крайне сложно, и государствам необходимо реагировать в режиме реального времени, что требует высокой степени гибкости и мобилизации.
История показывает, что внешняя политика является вторичной по отношению к внутренним условиям. Сильное внешнее влияние возможно только при наличии крепкой внутренней базы. Экономическая мощь — без устойчивой экономики внешняя экспансия становится фикцией. Социальное единство — государство, страдающее от внутренних конфликтов, не способно эффективно конкурировать на международной арене. Культура и образование, как настоящая "мягкая сила", формируются не из деклараций, а из реального культурного продукта и интеллектуального капитала общества. Верховенство закона внутри страны создает устойчивую систему. Поэтому успешными оказываются те государства, которые смогли гармонизировать внутренние противоречия и выработать целостную модель, которую можно вывести за пределы — будь то в виде технологий, культуры или идей.
В конечном итоге, устойчивость и сила любого государства определяются не внешними декларациями, а его внутренними ресурсами. Образование, культура, человеческий капитал, крепкая экономика и правовые институты — это те факторы, которые позволяют не только удерживать позиции, но и предлагать миру свои достижения. Именно поэтому для стран Центральной Азии критически важно укреплять свои внутренние основы, чтобы реагировать на вызовы с уверенностью и стратегическим подходом.
Читайте также: